Аннотация. Статья посвящена анализу кризиса мужской идентичности в кинематографе Нагисы Осимы, отражающего социальные и политические трансформации в послевоенной Японии. На основе фильмов 1960-1980-х годов рассматриваются внутренние конфликты мужских персонажей, их борьба с утратой традиционных патриархальных ролей и поиск новых форм самоопределения. Исследование выявляет философскую глубину и социальную критику в работах режиссера, предлагая новый взгляд на переосмысление мужской идентичности.
Ключевые слова: японский кинематограф, мужская идентичность, послевоенные трансформации, гендерные конфликты, экзистенциальный кризис.
С развитием новых направлений в науке о языке – мультимодальной и медиалингвистики – в языковедческих кругах отмечается повышенный интерес к мультимодальным нарративным форматам: медианарративу и кинонарративу [2, с. 30]. Кинематограф Нагисы Осимы, выдающегося японского режиссера, представляет собой уникальное поле для анализа социальных и политических трансформаций, происходивших в Японии в послевоенный период. Его фильмы, созданные в 1960-1980-х годах, не только отражают политическую и социальную турбулентность, но и глубоко исследуют кризис мужской идентичности, вызванный столкновением традиционных патриархальных норм с новыми реалиями модернизированного общества [7]. В данной статье, основанной на материалах исследования, рассматривается, как фильмы Осимы раскрывают внутренние конфликты мужских персонажей, их борьбу с утратой традиционных ролей и поиск новых форм самоопределения. Особое внимание уделяется тому, как режиссер использует семиотические знаки для демонстрации психологической и социальной нестабильности, связанной с изменением гендерных ожиданий в Японии второй половины XX века [5, с. 45].
Исторический контекст и кризис мужской идентичности
На протяжении истории Японии представления о роли мужчины формировались под влиянием патриархальных традиций, укорененных в конфуцианских и самурайских идеалах. Мужчина воспринимался как кормилец, защитник и носитель семейной чести, что требовало от него сохранения «лица» и строгого соответствия социальным ожиданиям [5]. Однако после Второй мировой войны, с принятием новой конституции 1947 года и демократическими реформами, традиционные гендерные роли начали подвергаться значительным изменениям. Мужчины столкнулись с новыми вызовами: требования эмоциональной открытости и гибкости вступили в конфликт с устаревшими ожиданиями силы и доминирования, что породило внутреннее напряжение и кризис идентичности.
Япония 1960-х годов, пережившая последствия войны и американской оккупации, оказалась в состоянии коллективного кризиса идентичности. Экономический рост и вестернизация привели к разрушению традиционных структур, включая семейные и гендерные роли. В этих условиях фильмы Нагисы Осимы стали зеркалом, отражающим внутренний разлад мужчин, оказавшихся между патриархальными ожиданиями и необходимостью адаптации к новым социальным реалиям [11, с. 200].
Репрезентация мужского кризиса в фильмах Осимы
Фильм 青春残酷物語 (сэйсун дзанкоку моногатари) «Повесть о жестокой юности» (1960) является ключевым текстом для анализа кризиса мужской идентичности в послевоенной Японии. Главный герой, Киёси, воплощает молодое поколение, лишенное идеалов и ориентиров. Его фраза «У нас нет мечтаний, нам не за что бороться» отражает экзистенциальный вакуум, характерный для молодежи 1960-х годов. Киёси пытается компенсировать утрату социальной роли через насилие и бунт, однако эти действия лишь подчеркивают его отчуждение от общества. В финале фильма, где Киёси погибает на свалке, Осима акцентирует отвержение обществом тех, кто не вписывается в новые социальные рамки (см. рисунок 1).

Рис. 1. Сцена смерти Киёси и Макото
Киёси становится символом мужчины, неспособного примирить традиционные ожидания с реальностями модернизирующегося общества. Его конфликт со старшим поколением подчеркивает разрыв между традицией и современностью, а насилие, проявляющееся в сценах вымогательства и конфликта на озере (см. рисунки 2, 3), становится способом компенсации утраченной идентичности [10].

Рис. 2. Сцена насилия на озере

Рис. 3. Сцена вымогания денег
«Насилие в полдень» (1966): разрушение идеализма
Фильм 白昼の通り魔 (хакутю: но то:рима), «Насилие в полдень» (1966) углубляет исследование кризиса через образ Эйсукэ, чья неспособность соответствовать идеалам мужественности приводит к моральной деградации. Убийство в этом фильме символизирует не только физическое насилие, но и утрату невинности и идеализма. Эйсукэ, разочарованный социопат, становится фигурой, связывающей двух женщин – Сино и Мацуко – через любовь и ненависть. Их попытки оправдать его действия отражают внутренний конфликт между личной привязанностью и осознанием морального краха (см. рисунки 4, 5). Осима использует этот образ для критики общества, в котором традиционные ценности разрушаются, оставляя мужчин в состоянии психологической нестабильности [12, с. 80].

Рис. 4. Мацуко просит Эйсукэ сделать с ней то, что он делал с «другими»

Рис. 5. Финальная сцена. Смерть Мацуко и казнь Эйсукэ
«Церемония» (1971): ловушка ритуалов
В фильме 儀式 (гисики) «Церемонии» (1971) Осима исследует пустоту традиционной японской маскулинности через образ Масуо, чья жизнь подчинена ритуалам – похоронам, свадьбам, семейным собраниям. Эти церемонии, внешне торжественные, оказываются ловушкой, лишенной смысла. Масуо, неспособный выйти из замкнутого круга традиций, становится жертвой патриархальной системы, где власть и насилие сливаются (см. рисунок 6). Инцест в фильме символизирует не только моральное падение, но и невозможность разорвать связь с устаревшими нормами. Осима подчеркивает, что традиционная мужская роль не является опорой, а, напротив, ограничивает и разрушает индивида [12, с. 112].

Рис. 6. Сцена инцеста Сэцуко и Тэрумити
«Империя чувств» (1976): сексуальность как самоуничтожение
Фильм 愛のコリーダ (ай но кори:да) «Империи чувств» (1976) представляет кризис мужской идентичности через образ Китидзо, чья сексуальная одержимость становится актом саморазрушения. Китидзо, изначально выступающий как традиционный мужской субъект, обладающий властью, постепенно утрачивает контроль, растворяясь в страсти. Его подчинение Саде символизирует отказ от традиционной маскулинности в пользу эротического самопожертвования. Исторический контекст 1936 года, с его милитаристскими репрессиями, усиливает протест Китидзо против социальных норм, но этот протест обречен на трагедию (см. рисунок 7). Осима показывает, что сексуальность приводит к разрушению его традиционной мужской роли (распад маскулинности), но в этом процессе он сталкивается с экзистенциальным поиском себя, выходя за рамки общественных норм [4].

Рис. 7. Сцена марша военных 1936 года
«Дневник вора из Синдзюку» (1969): перформативность и кража идентичности
Фильм 新宿泥棒日記 (синдзюку доробо: ники) «Дневник вора из Синдзюку» (1969) раскрывает кризис мужской идентичности через образ Бёрди, молодого человека, который пытается переосмыслить свою маскулинность в условиях социальной маргинализации. Бёрди, вор и бунтарь, отвергает традиционные социальные роли, превращая свою жизнь в театральную игру. Его отношения с Умэко, женщиной, которая также стремится к независимости, сосредоточены на разоблачении элементов сексуальности и гендерных ожиданий. Через участие в театральных постановках Бёрди примеряет различные маски, словно пытаясь понять, кем он является в мире, где традиционные ориентиры утрачены [9, с. 85].
Кража книг из книжного магазина, показанная в фильме становится символическим актом протеста против системы, основанной на потреблении и контроле. Бёрди не просто совершает преступление – он крадет право на идентичность, не подчиненную нормам общества. Однако его бунт не приводит к освобождению: сцена группового изнасилования Умэко (см. рисунок 8) подчеркивает его неспособность примирить ожидания общества с собственными устремлениями. Осима называл этот фильм исследованием «конфликта между традицией и современностью», где Бёрди становится символом мужчины, потерявшего ориентиры в меняющемся мире [9, с. 87].
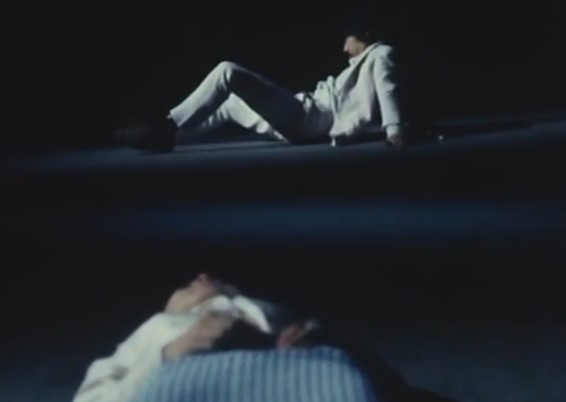
Рис. 8. Сцена после изнасилования Умэко
«С Рождеством, мистер Лоуренс» (1983): внутренние противоречия маскулинности
Фильм 戦場のメリークリスマス (сэндзё но Мерии Курисумасу) «С Рождеством, мистер Лоуренс» (1983), основанный на романе Лоренса ван дер Поста, переносит анализ кризиса мужской идентичности в контекст военной структуры. Капитан Ёнои, японский офицер, воплощает внешнюю силу и дисциплину, но страдает от внутреннего конфликта, вызванного столкновением репрессированных желаний с социальными ожиданиями [9]. Его взаимодействие с майором Джеком Селльерсом, британским военнопленным, становится центральным элементом фильма. Сцены их встреч, особенно первая и диалог о культурных различиях подчеркивают попытку Ёнои преодолеть культурные и эмоциональные барьеры (см. рисунок 9). Жест срезания пряди волос Селльерса символизирует переход от ненависти к уважению, но трагический финал, где Селльерс умирает, закопанный в землю, демонстрирует невозможность полного примирения в условиях войны [5]. Пространственная организация лагеря усиливает символику изоляции и конфликта, отражая внутреннее состояние персонажей [1].

Рис. 9. Майор Джек провоцирует капитана Ёнои
Японская культура, как показано в фильме, рассматривает пленных как духовно нечистых, что усиливает жестокость по отношению к ним и подчеркивает внутренний разлад Ёнои. Его внешняя дисциплина контрастирует с внутренней уязвимостью, вызванной разрушением традиционных ценностей и жестокими реалиями войны. Осима акцентирует не внешний конфликт, а внутренний кризис, где маскулинность оказывается хрупкой и противоречивой. Ёнои, как и другие персонажи Осимы, не может полностью соответствовать патриархальным ожиданиям, что делает его фигурантом конфликта между долгом и личными желаниями. Оценочные категории в дискурсе, включая военный, формируют восприятие идентичности, подчеркивая внутренние противоречия Ёнои, связанного нормами чести и дисциплины [6, с. 78].
Осима использует ряд выразительных приемов для раскрытия кризиса мужской идентичности. Во-первых, он отказывается от бинарных оппозиций, таких как «мужское – женское» или «сильное – слабое», показывая, что маскулинность – это не фиксированная категория, а хрупкая конструкция, подверженная распаду. Во-вторых, режиссер акцентирует телесность и сексуальность как пространства конфликта, где традиционные представления о мужской силе разрушаются [3]. Например, в «Империи чувств» тело Китидзо становится одновременно инструментом власти и объектом подчинения.
Кроме того, Осима активно использует исторический контекст для усиления символики своих образов. Его фильмы, такие как «Повесть о жестокой юности» или «С Рождеством, мистер Лоуренс», разворачиваются на фоне значимых социальных изменений – студенческих протестов, милитаризма, послевоенной оккупации, – что позволяет режиссеру показать, как внешние факторы формируют внутренний кризис мужчин. Язык и культура выступают инструментами «мягкой силы», формируя социальные ожидания и идентичность, что Осима использует для деконструкции традиционных представлений о маскулинности через диалоги и визуальные образы своих персонажей [8, с. 97].
Философская глубина и социальная критика
Работы Осимы не только фиксируют кризис мужской идентичности, но и предлагают философское осмысление этого процесса. Режиссер, опираясь на экзистенциалистские идеи Сартра, рассматривает свободу как результат принятия случайности бытия [11, с. 200]. Его персонажи, такие как Киёси или Ёнои, сталкиваются с экзистенциальным вакуумом, где традиционные роли перестают быть ориентирами. Осима не предлагает новых нормативных моделей маскулинности, а создает пространство для открытого смысла, тревоги и индивидуального переживания.
Критический взгляд Осимы на японское общество проявляется в его отказе романтизировать или демонизировать своих героев. Вместо этого он показывает их как жертв и одновременно агентов социальных изменений. Например, Масуо в «Церемонии» одновременно подчинен традициям и стремится к их разрушению, что делает его фигурантом сложного конфликта между прошлым и настоящим.
Заключение
Фильмы Нагисы Осимы представляют собой глубокое исследование кризиса мужской идентичности в послевоенной Японии. Через образы своих персонажей режиссер раскрывает, как социальные трансформации, вызванные войной, оккупацией и модернизацией, разрушают традиционные гендерные роли, оставляя мужчин в состоянии психологической и социальной нестабильности. Его работы становятся полем для анализа конфликта между патриархальными ожиданиями и новыми реалиями, где мужчины вынуждены переосмысливать свою идентичность. Семиотические знаки, включая отказ от бинарных оппозиций, акцент на телесности и использование исторического контекста, подчеркивают хрупкость маскулинности и ее подверженность культурным и историческим изменениям. Таким образом, творчество Осимы не только отражает кризис, но и предлагает философский взгляд на возможности переосмысления мужской идентичности в условиях меняющегося мира.
Список литературы:
- Баранова К. М. Особенности концептуализации пространства в идиостиле Г. Мелвилла // Вестник МГПУ. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование, 2020. №1(37). С. 36-43.
- Буландо Р.И. К проблеме разграничения понятий «кинодискурс», «кинотекст», «кинонарратив» в русскоязычном научном дискурсе // Научный старт – 2020: Сборник статей магистрантов и аспирантов / Редколлегия: Л.Г. Викулова, Е.Г. Тарева, И.В. Макарова, Л.А. Борботько. М.: ООО «Языки Народов Мира», 2020. С. 29-33.
- Гринев-Гриневич С.В. Основы семиотики. М.: ФЛИНТА, 2012. 256 с.
- Катасонова Е.Л. Осима Нагиса: наперекор всем табу // Ежегодник Япония, 2012. №41. С. 205-222.
- Новикова А.А. Гендерные трансформации в послевоенной Японии // Вестник МГУ. Серия: Востоковедение, 2014. №3. С. 45-56.
- Райскина В.А. Средства выражения оценочности в современном научно-историческом дискурсе // Вестник МГПУ. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование, 2021. №2(42). С. 75-83.
- Ситдикова В.В. Влияние гендерного аспекта на использование форм вежливости в японском и корейском языках // Россия и Восток. К 300-летию СПбГУ: Материалы XXXII Международного конгресса по источниковедению и историографии стран Азии и Африки, Санкт-Петербург, 26-28 апреля 2023 года / Отв. редакторы: Н.Н. Дьяков, А.О. Победоносцева Кая, П.И. Рысакова. СПб.: Русская христианская гуманитарная академия им. Ф.М. Достоевского, 2023. С. 588.
- Тарева Е.Г. Обучение языку и культуре: инструмент «мягкой силы»? // Вестник МГПУ. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование, 2016. №3(23). С. 94-101.
- Butler J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge, 2009. 236 p.
- Desser D. Eros Plus Massacre: An Introduction to the Japanese New Wave Cinema. Bloomington: Indiana University Press, 1988. 239 p.
- Muller A. Sartre and Japanese Cinema: Existential Themes in Oshima’s Films // Journal of Japanese Studies, 2009. Vol. 35, №2.: 195-210.
- Turim The Films of Nagisa Oshima: Images of a Japanese Iconoclast. Berkeley: University of California Press, 1998. 317 p.
Crisis of Male Identity in Nagisa Oshima’s Cinema: Reflection of Social Transformations in Post-War Japan
Bakina A.O.,
bachelor of 4 course of the Moscow City University, Moscow
Research supervisor:
Gamalei Maxim Sergeevich,
Associate Professor, Department of Japanese Language, Institute of Foreign Languages, Moscow City University, Candidate of Historical Sciences
Abstract. The article analyzes the crisis of male identity in the cinema of Nagisa Oshima, reflecting social and political transformations in post-war Japan. Based on films from the 1960s–1980s, the article examines the internal conflicts of male characters, their struggle with the loss of traditional patriarchal roles, and the search for new forms of self-determination. The study reveals the philosophical depth and social criticism in the director's works, offering a new perspective on rethinking male identity.
Keywords: Japanese cinema, male identity, postwar transformations, gender conflicts, existential crisis.
References:
- Baranova K.M. Features of Spatial Conceptualization in H. Melville’s Idiolect // Moscow City University Bulletin. Series: Philology. Theory of Language. Language Education, №1(37).: 36-43.
- Bulando R. I. On the Problem of Differentiating the Concepts «Cinematic Discourse», «Cinematic Text», and «Cinematic Narrative» in Russian Scholarly Discourse // Scientific Start – 2020: Collection of Articles by Master’s and Postgraduate Students / Eds. L.G. Vikulova, E.G. Tareva, I.V. Makarova, L.A. Borbotko. Moscow: LLC «Languages of the Peoples of the World», 2020.: 29-33.
- Grinev-Grinevich S.V., Sorokina, E.A. Fundamentals of Semiotics. Moscow: FLINTA, 2012. 256 p.
- Katasonova E.L. Nagisa Oshima: Against All Taboos // Japan Yearbook, 2012. №41.: 205-222.
- Novikova A.A. Gender Transformations in Postwar Japan // Moscow State University Bulletin. Series: Oriental Studies, №3.: 45-56.
- Raiskina V.A. Means of Expressing Evaluativity in Contemporary Academic-Historical Discourse // Moscow City University Bulletin. Series: Philology. Theory of Language. Language Education, №2(42).: 75-83.
- Sitdikova V.V. The Influence of the Gender Factor on the Use of Honorific Forms in Japanese and Korean // Russia and the East. On the 300th Anniversary of St. Petersburg State University: Proceedings of the 32nd International Congress on Source Studies and Historiography of Asian and African Countries, St. Petersburg, April 26-28, 2023 / Eds. N.N. Dyakov, A.O. Pobedonostseva Kaya, P.I. Rysakova. St. Petersburg: Dostoevsky Russian Christian Academy for the Humanities, 2023.: 558.
- Tareva E.G. Teaching Language and Culture: An Instrument of «Soft Power»? // Moscow City University Bulletin. Series: Philology. Theory of Language. Language Education, №3(23).: 94-101.
- Butler J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge, 2009. 236 p.
- Desser D. Eros Plus Massacre: An Introduction to the Japanese New Wave Cinema. Bloomington: Indiana University Press, 1988. 239 p.
- Muller A. Sartre and Japanese Cinema: Existential Themes in Oshima’s Films // Journal of Japanese Studies, 2009. Vol. 35, №2.: 195-210.
- Turim The Films of Nagisa Oshima: Images of a Japanese Iconoclast. Berkeley: University of California Press, 1998. 317 p.
